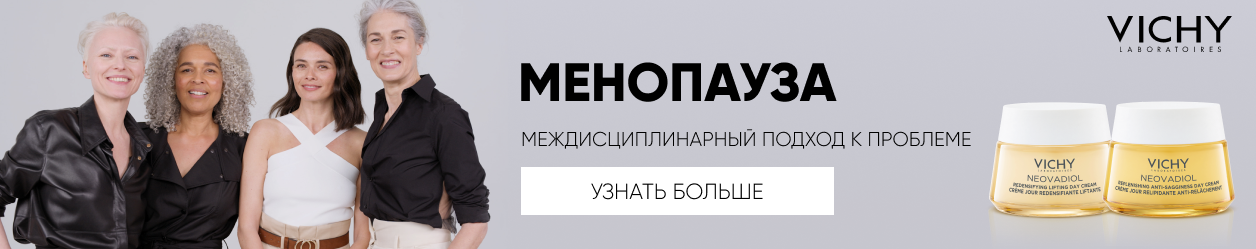О симуляторах
вт., 26/10/2021 - 16:52 — Юрий_БоровиковДля отработки практических навыков в медицине придуманы симуляторы, которые позволяют медицинскому персоналу приобретать и совершенствовать свой опыт без нанесения в процессе обучения вреда здоровью пациента.
Симуляторы бывают разные.
Они могут имитировать отдельные части тела. Например, грудь и шею для отработки доступа к крупным сосудам. Или глаза и уши для проведения физикального осмотра. Или ягодицы для постановки внутримышечных инъекций.
Более сложные фантомы копируют облик человека в целом и используются в обучении азам сердечно-легочной реанимации. Система симулятора может предоставлять информацию о качестве проводимых мероприятий (объем вентиляции, глубина надавливаний на грудную клетку, правильность положения рук реанимирующего и т.д.).
“Продвинутые” симуляторы научены быть еще более реалистичными. В зависимости от их цены, они могут имитировать реакцию зрачков на свет и звуки кишечника, с ними можно освоить навыки интубации и оксигенотерапии.
Новые мутации, лежащие в основе шерстистых волос
сб., 23/10/2021 - 20:00 — Мордовцева Валерия ВладимировнаШерстистые волосы – редкое, генетически гетерогенное состояние. В последние годы были идентифицированы мутации, приводящие к его развитию.
На основании мутаций выделяют три формы шерститых волос с аутосомно-рецессивным типом наследования. Эти три формы вызваны мутациями в LPAR6, LIPH и KRT25, соответственно.
Наиболее часто это мутации сайта сплайсинга. Первые два типа клинически практически неразличимы между собой. Третий тип заболевания из выше перечисленных представляет собой невус шерстистых волос.
Считается, что мутация вызывающая заболевание, варьирует в зависимости от этнической принадлежности и страны проживания.
В частности, LIPH мутации были выявлены только у семей, проживающих в Японии, Пакистане, а также у жителей территории России между Волгой и Уралом. В этом регионе России в большинстве случаев мутация обусловлена делецией в экзоне 4.
О “больных зданиях”
вт., 19/10/2021 - 15:48 — Юрий_БоровиковПричиной развития синдрома “больного здания” (СБЗ) является загрязненный воздух его помещений, приводящий к развитию у жильцов респираторной и/или кожной симптоматики.
Обычно проблемы со здоровьем у проживающих в этих новых или недавно отремонтированных зданиях связаны с присутствием здесь различных нежелательных органических соединений и прочих поллютантов.
Строительные материалы, летучие органические вещества, изделия из пластика, резины, силикона в сочетании с дефектами вентиляции и отопления вызывают различные страдания у обитателей “больных зданий”.
Самым частым виновником развития СБЗ является формальдегид – бесцветный газ с резким запахом, который могут выделять строительные и отделочные материалы, утеплители, предметы мебели. Он может присутствовать в воздухе помещений нового дома в течение нескольких лет.
Лейомиома множественная и синдром Рида: современные критерии диагностики
пт., 15/10/2021 - 17:23 — mordovtsevaЛейомиома множественная представляет собой доброкачественную опухоль гладкомышечной ткани с возможным аутосомно-доминантным типом наследования. В основе развития заболевания лежит гетерозиготная мутация герменативной линии в гене, кодирующем фумарат-гидратазу и являющимся онкосупрессором.
Наиболее часто встречается лейомиома из мышц, поднимающих волос. Реже - ангиолейомиома и генитальная лейомиома. У пациентов, страдающих множественной лейомиомой, повышен риск развития злокачественных опухолей, в первую очередь рак почек (примерно 15% случаев). На момент диагноза у 50% больных уже выявляются метастазы.
Клинически лейомиомы из мышц, поднимающих волос, представляет собой мелкие, плотные, слегка возвышающиеся опухолевидные овальные образования, цвета нормальной кожи, желтовато- или красновато-коричневые, синюшные.
Располагаются в основном на разгибательных поверхностях конечностей и ягодицах сгруппированно или линейно, иногда унилатерально. Характерна болезненность лейомиом при пальпации, воздействиях внешней среды (изменение температуры), психических напряжениях или самопроизвольно.
Специальный образовательный проект и конкурс для дерматологов
чт., 14/10/2021 - 14:06 — главный редактор
Уважаемые коллеги!
Компания VICHY приглашает Вас принять участие в конкурсе на самый интересный вопрос экспертам (гинекологу - эндокринологу, диетологу, дерматокосметологу, подробнее...)
О новом издании
вт., 12/10/2021 - 15:59 — Юрий_Боровиков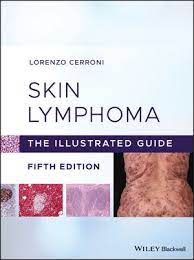 Издательство Wiley в очередной раз порадовало новой книгой --“Skin Lymphoma. The Illustrated Guide”, 5е издание. Слов нет, коллектив ее авторов, возглавляемый директором Научного Центра Дерматопатологии Медицинского Университета города Грац (Австрия) Lorenzo Cerroni, написал замечательный труд по такой очень важной и спорной теме как лимфомы кожи.
Издательство Wiley в очередной раз порадовало новой книгой --“Skin Lymphoma. The Illustrated Guide”, 5е издание. Слов нет, коллектив ее авторов, возглавляемый директором Научного Центра Дерматопатологии Медицинского Университета города Грац (Австрия) Lorenzo Cerroni, написал замечательный труд по такой очень важной и спорной теме как лимфомы кожи.
Восемь разделов книги охватывают все современные аспекты этиологии, патогенеза, клиники, диагностики и лечения кожных лимфом, начиная с грибовидного микоза и заканчивая атипичными лимфоидными пролиферациями. Естественно, в новом издании нашли отражение новые классификации ВОЗ и EORTC (Европейской Организации по Исследованию и Лечению Рака).
Пот и ушная сера: что общего?
пн., 11/10/2021 - 21:36 — Мордовцева Валерия ВладимировнаИнтересные исследования были проведены Katharine A. Prokop-Prigge et al.: авторы сравнили характеристики ушной серы и секрета потовых желез. В итоге были сделаны следующие выводы:
Количество летучих органических субстанций ушной серы и пота регулируется геном ABCC11.
Полиморфизм нуклеотидов этого гена определяет разницу в запахе ушной серы у каждого человека, при этом имеется разница и между представителями разных этнических групп.
Продукт гена, протеин ABCC11, ответственен за транспорт ряда мелких молекул и, при одновременном участии определенных микроорганизмов, за образование малоприятного запаха в подмышечной области, а также за фенотипические признаки ушной серы.
Секрет апокриновых желез лишен запаха, который появляется после взаимодействия с микроорганизмами (стафилококки и коринебактерии). Интенсивность запаха определяется именно последними.
Запах пота, кроме того, зависит от присутствия атомов серы, причем в самых минимальных количествах.
Новые мутации и критерии постановки диагноза болезни Рендю-Ослера
вс., 10/10/2021 - 11:07 — mordovtsevaБолезнь Рендю-Ослера, или ангиоматоз семейный геморрагический, обусловлена гетерозиготными мутациями в гене, кодирующем эндоглин (1 тип), и в гене ACVRL1, кодирующем рецепторную тирозинкиназу.
В последние годы были описаны также мутации в гене GDF2, продуктом которого является белок, связывающийся с эндоглином и ACVRL1, а также в гене SMAD4, продукт которого участвует в передаче сигналов от рецептора к трансформирующему фактору роста-бета.
Заболевание развивается обычно в детском или подростковом возрасте. Первыми симптомами являются носовые кровотечения. Нередко рано появляются изменения слизистой оболочки щек, языка, неба, десен и губ: телеангиэктазии, паукообразные сосудистые невусы, мелкие ангиомоподобные элементы величиной от нескольких мм до 0,5-1 см в диаметре.
Телеангиэктазии могут также обнаруживаться на коже лица, ладоней, подошв, вокруг ногтей и в области ногтевого ложа, на конъюнктиве, на слизистой оболочке органов желудочно-кишечного тракта.
У больных старше 40 лет нередки желудочно-кишечные кровотечения с развитием анемии, повторные кровохаркания, гепатоспленомегалия, портальная гипертензия, цирроз печени, сердечная недостаточность, кровоизлияния в мозг, острая параплегия. При этом лабораторные показатели не изменены.
Маастрихт
вт., 05/10/2021 - 16:04 — Юрий_БоровиковРечка Маас (Мез) берет начало на плато Лангр во Франции и течет на север по территории Бельгии и Нидерландов, впадая в Северное море. На ее берегах стоит славный голландский городок Маастрихт.
Бесспорным украшением маастрихтской городской набережной является здание Боннефантен-музея, построенное на месте цехов бывшего гончарного завода.
Его купольная башня, похожая на приготовившуюся к старту ракету, видна издалека. В ней расположен величественный восьмиугольной формы зал, используемый для инсталляций современных художников.
Архитектор Боннефантен-музея великий Альдо Росси рассматривал создаваемый им объект как некую “смотровую фабрику”. В результате его замысла появилась своеобразная вариация классического здания музея с четкой структурой и последовательностью залов, имеющих боковое и потолочное освещение, которые расположены вокруг одной центральной лестницы.
Болезнь Менкеса, новые мутации и тяжесть течения
чт., 30/09/2021 - 17:39 — Мордовцева Валерия ВладимировнаБолезнь Менкеса – генетически детерминированное заболевание, наследуемое Х-сцепленно рецессивно. Встречается с частотой 1 : 100 000 – 250 000 новорожденных.
В основе развития лежат мутации в гене ATP7A, который кодирует АТФ-азу, ответственную за трансмембранный транспорт меди. К настоящему времени были описаны 311 различных мутаций: делеции, инсерции, дупликации, миссенс, нонсенс, мутации сайта сплайсинга. Локус гена – Xq21.1 Болеют в основном мальчики. Крайне редко возможны спорадические случаи.
Заболевание было описано в 1962 году Menkes et al. JS O’Brien и EL Sampson предложили термин "курчавые, странные волосы" в 1966. DM Danks в 1973 году предложил также термин "болезнь стальных волос".
Первые клинические признаки появляются в раннем детском возрасте.